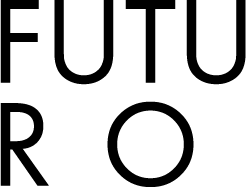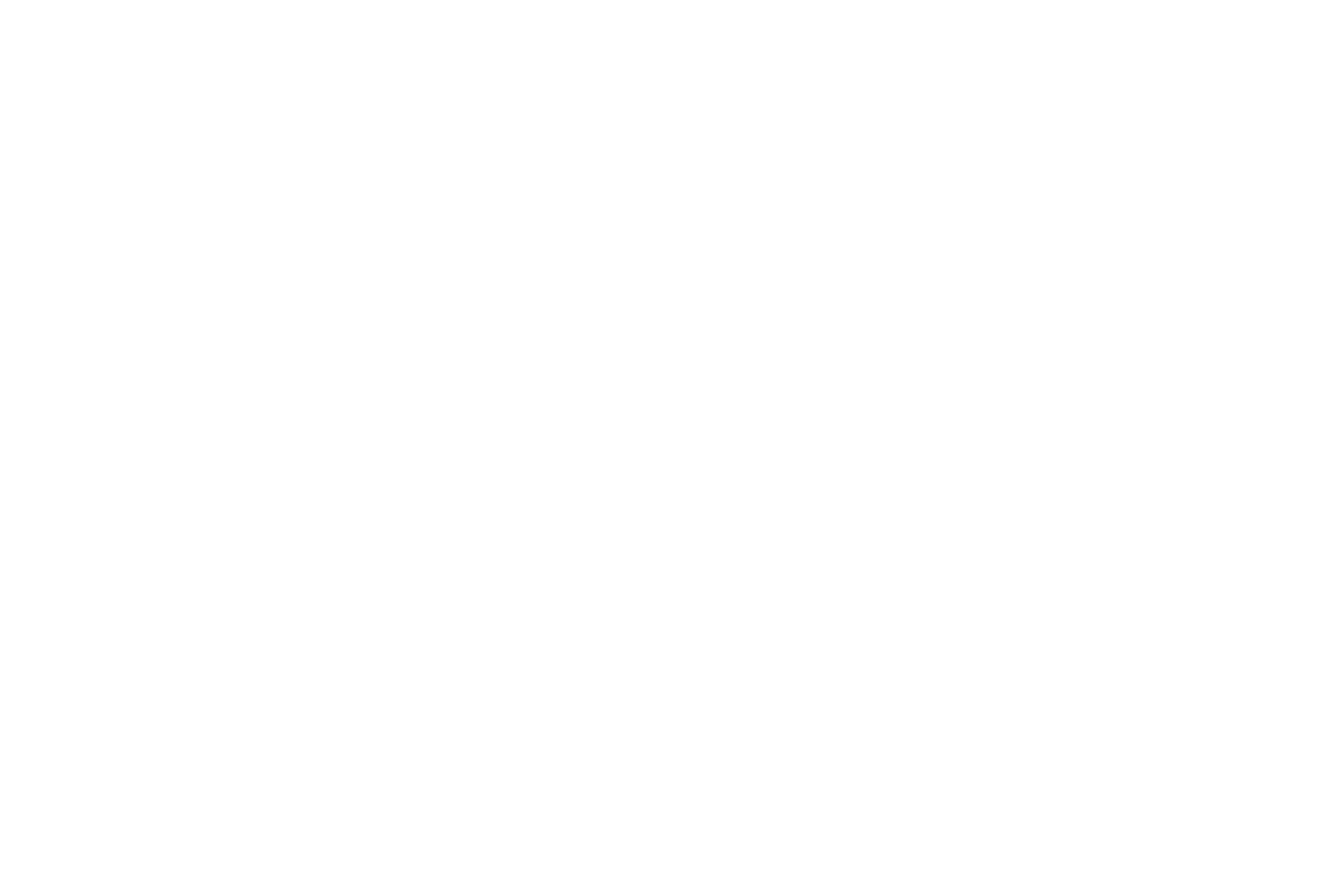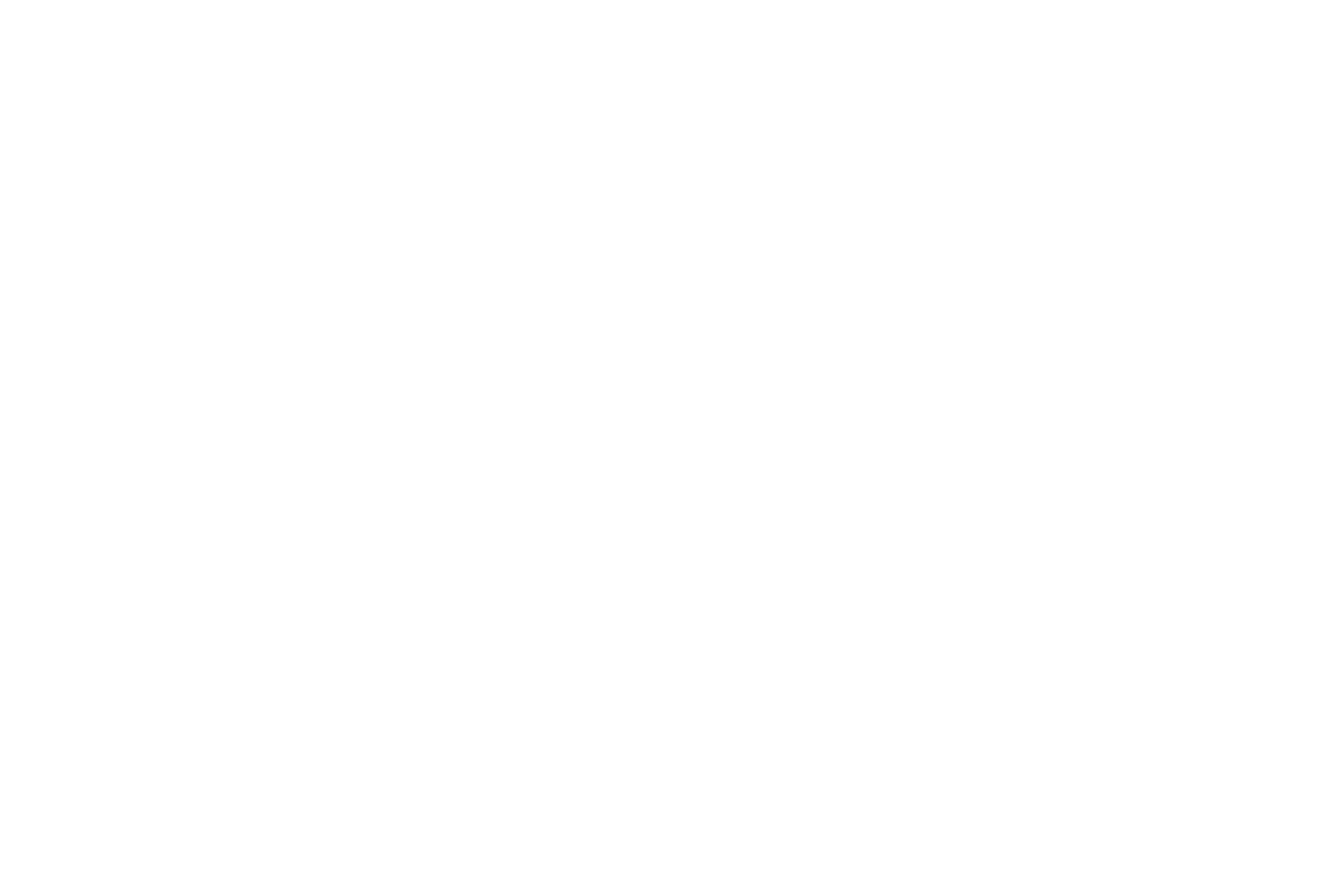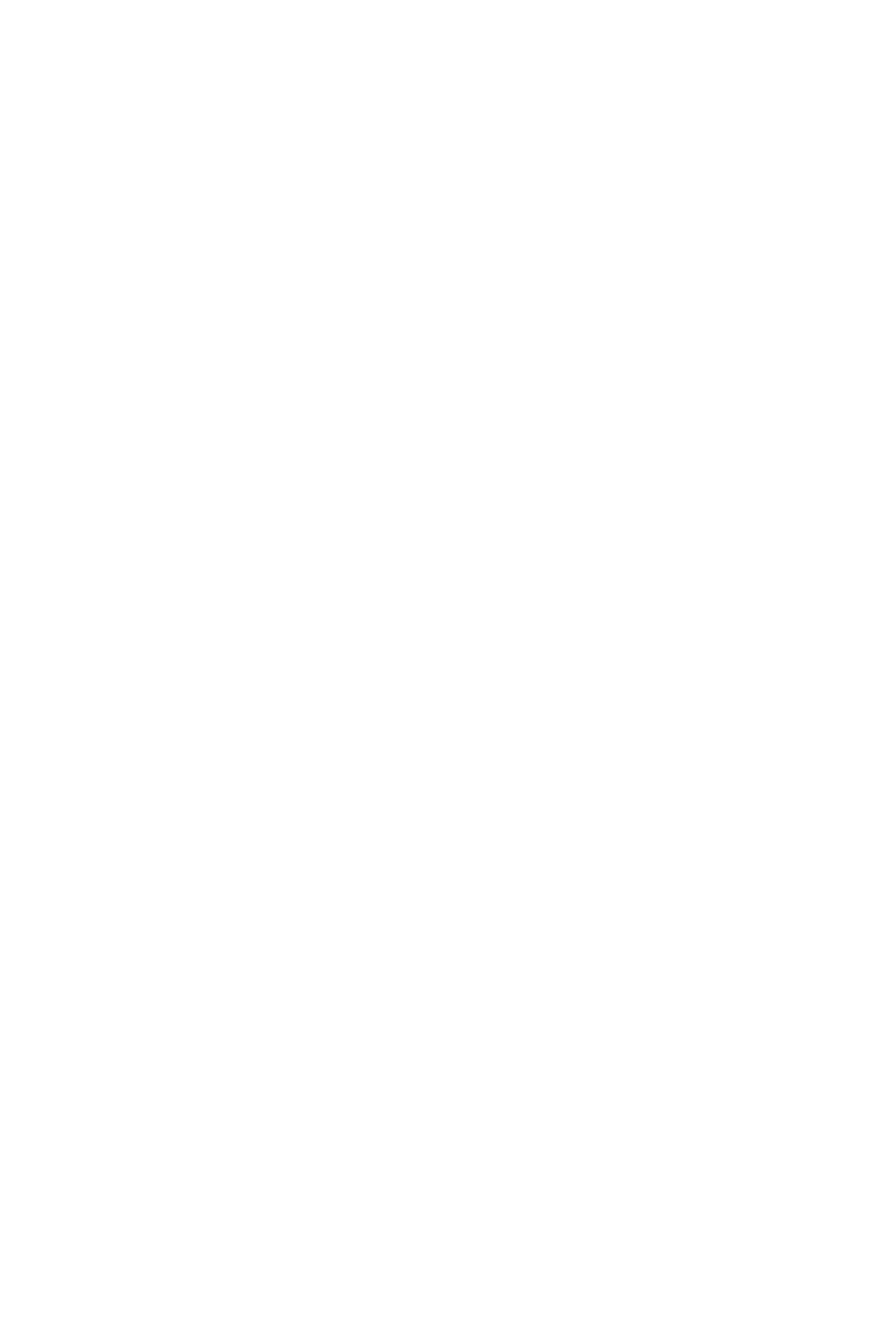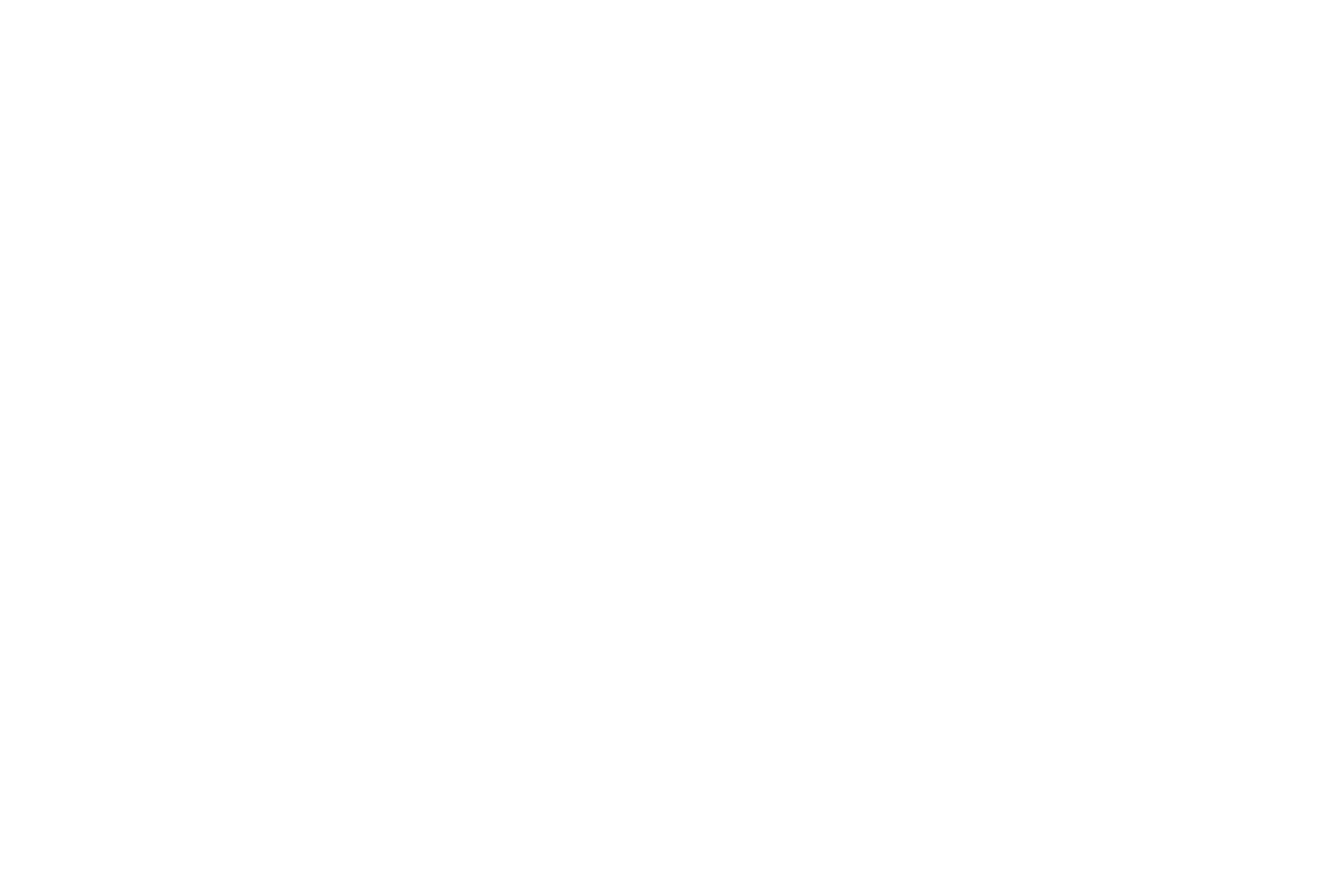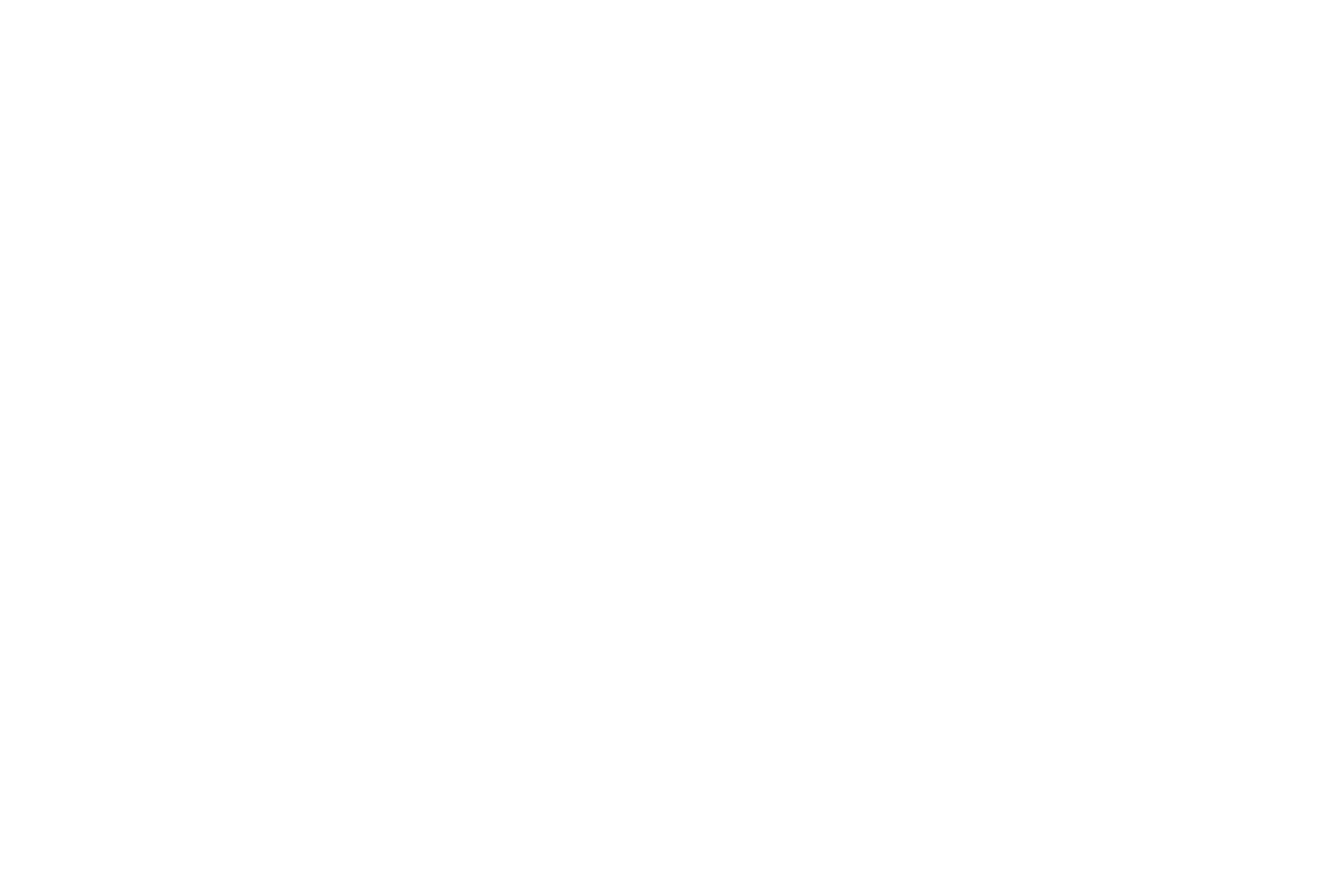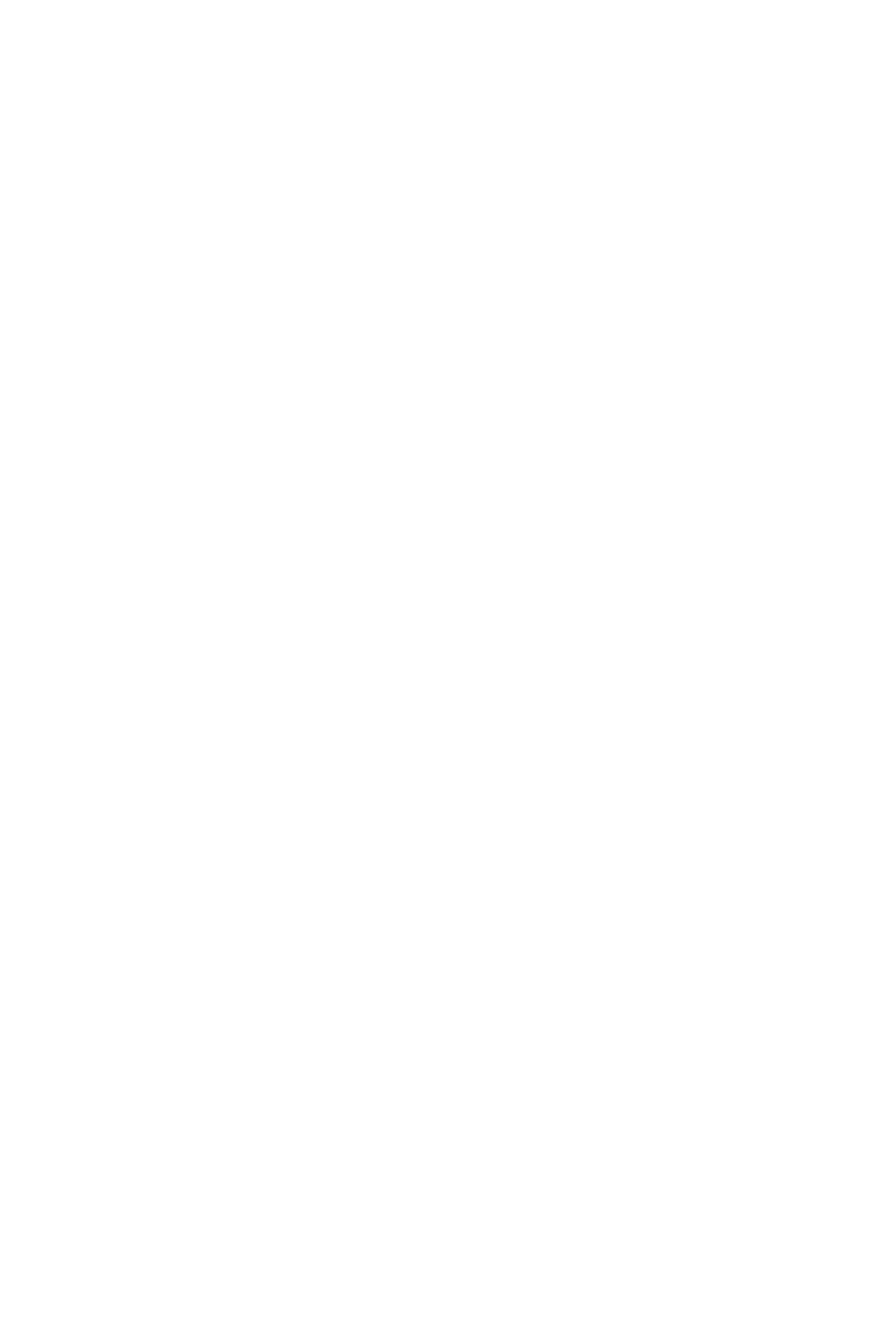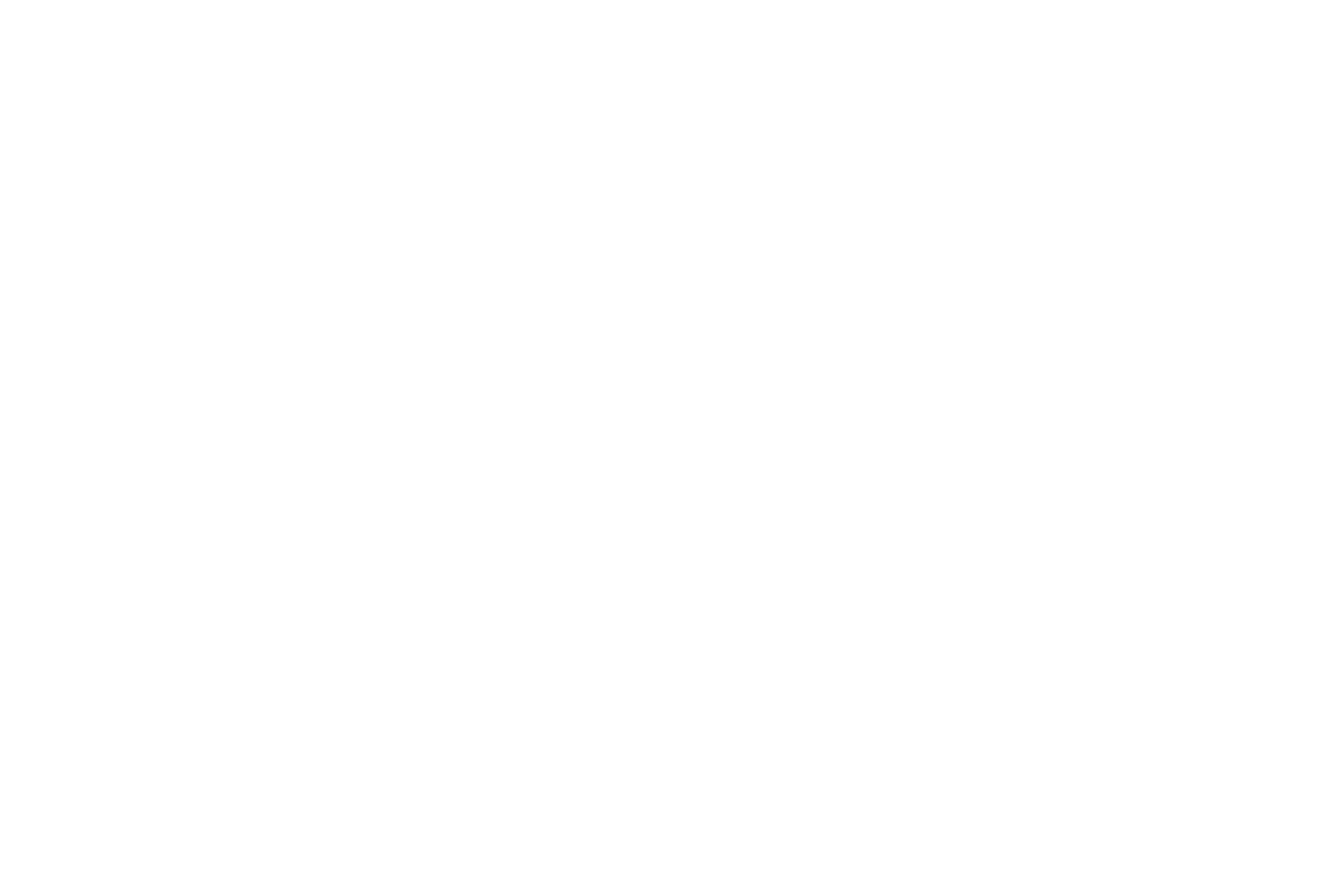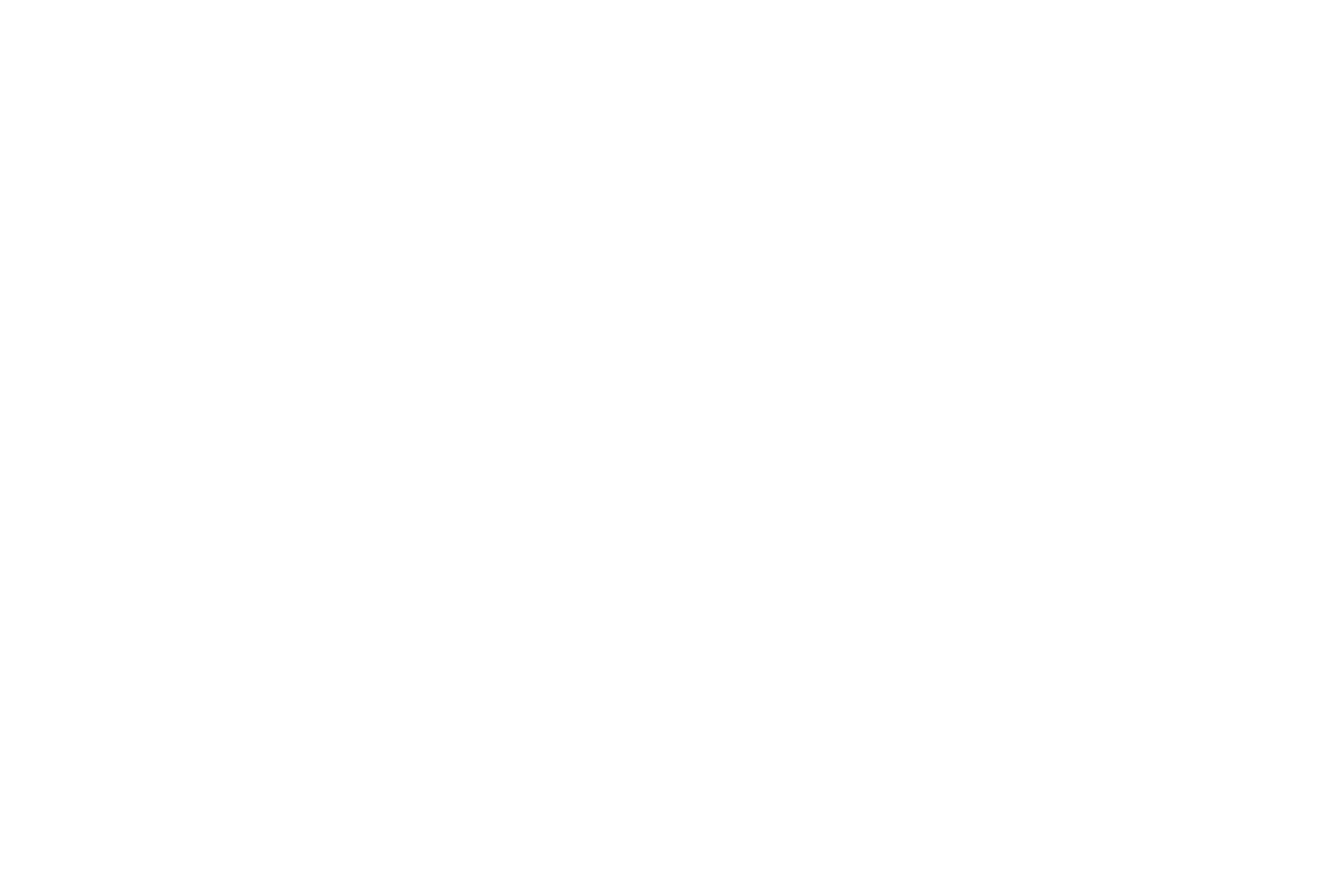→→ FUTURO в Нижнем Новгороде
В рамках Первой биеннале частных коллекций
3.10.25
Из коллекции леонида костина
Всеволод абазов. носки
Куратор: илья крончев-иванов
Фотограф: Евгения СЕНИНА
Кураторский текст
— Хозяин дал Добби носок, — произнес он в изумлении. — Хозяин дал его Добби...
— Что такое? — фыркнул мистер Малфой. — Что ты там лопочешь?
— Добби получил носок, — пролепетал домовик, не веря своему счастью.
— Хозяин бросил, Добби поймал, и Добби... Добби свободен.
(с) Джоан Роулинг,
Гарри Поттер и Тайная комната
Сегодня в российском современном искусстве фигура коллекционера приобрела особую символическую значимость. Коллекционеры выходят на первый план: они дают интервью, открывают собственные институции, демонстрируют свои собрания в музеях, тем самым присваивая себе право решать, кому из художников уготовано место в истории искусства, а кому — забвение.
Пять лет назад куратор Алексей Масляев в тексте к одной из первых выставок, запустивших волну интереса к частным коллекциям современного искусства — «Вещи. Из коллекции Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне» — предельно ясно обозначил радикальный сдвиг в системе современного российского искусства и сформулировал проблему, на которую я хочу обратить внимание сегодня:
«Выступая репутационным и статусным индикатором, современное искусство привлекает людей, готовых в обмен на его символические блага оказывать ему поддержку, в том числе в форме частной практики коллекционирования. Это приводит к тому, что ‘вместо независимого критика и его художественной экспертизы на первый план выходит коллекционер, чей персональный выбор теперь диктует правила игры’. В системе искусства происходят важные структурные изменения, однако они остаются скрытыми от рядового зрителя. Но если эта проблема сугубо внутрицеховая, почему она должна тематизироваться и волновать самую широкую аудиторию? Потому что в результате этого переустройства на наши представления о том, что такое современное искусство и кто из художников должен занять место в его истории, решающее влияние начинает оказывать коллекционер — субъект, практика которого определяется его личным вкусом».
Апофеозом этих изменений стала Биеннале частных коллекций, институционально закрепившая новый порядок: сегодня именно коллекционер задаёт правила игры и определяет, каким будет культурный ландшафт России. Одной из причин этого сдвига, на мой взгляд, стала смена приоритетов государственной политики в сфере культуры. Институции, которые прежде обладали экспертизой и авторитетом, утратили символическую мощь: государственные музеи почти перестали работать с современным искусством, специализированные отделы были расформированы, ведущие специалисты ушли.
Частные институции также оказались в уязвимом положении, и освободившуюся нишу занял капитал. В ситуации, когда художественная сцена остро нуждалась в поддержке, именно институт меценатства оказался тем, кто смог предоставить её участникам (не только художникам, но и кураторам, критикам, галеристам) ресурсы, пространства и впоследствии легитимизацию. Но вместе с этим коллекционер присвоил себе и право на высказывание: сегодня он выполняет функции и эксперта, и куратора, и институции.
Как верно подметил Алексей Масляев, современное российское искусство всё больше стало зависеть не от публичного обсуждения и профессиональной экспертизы, а от индивидуального вкуса и стратегий накопления капитала. Здесь невольно вспоминаются критические замечания Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера из «Диалектики просвещения», где философы вводят понятие «культурной индустрии» — системы, в которой искусство подчиняется логике капитала и превращается в товар, а порой и в сервис, упаковывающий развлечение, идентичность или lifestyle. Только если для Адорно это было предостережение, то в российской ситуации оно стало реальностью, где художник превращается в поставщика символического товара.
Пять лет назад куратор Алексей Масляев в тексте к одной из первых выставок, запустивших волну интереса к частным коллекциям современного искусства — «Вещи. Из коллекции Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне» — предельно ясно обозначил радикальный сдвиг в системе современного российского искусства и сформулировал проблему, на которую я хочу обратить внимание сегодня:
«Выступая репутационным и статусным индикатором, современное искусство привлекает людей, готовых в обмен на его символические блага оказывать ему поддержку, в том числе в форме частной практики коллекционирования. Это приводит к тому, что ‘вместо независимого критика и его художественной экспертизы на первый план выходит коллекционер, чей персональный выбор теперь диктует правила игры’. В системе искусства происходят важные структурные изменения, однако они остаются скрытыми от рядового зрителя. Но если эта проблема сугубо внутрицеховая, почему она должна тематизироваться и волновать самую широкую аудиторию? Потому что в результате этого переустройства на наши представления о том, что такое современное искусство и кто из художников должен занять место в его истории, решающее влияние начинает оказывать коллекционер — субъект, практика которого определяется его личным вкусом».
Апофеозом этих изменений стала Биеннале частных коллекций, институционально закрепившая новый порядок: сегодня именно коллекционер задаёт правила игры и определяет, каким будет культурный ландшафт России. Одной из причин этого сдвига, на мой взгляд, стала смена приоритетов государственной политики в сфере культуры. Институции, которые прежде обладали экспертизой и авторитетом, утратили символическую мощь: государственные музеи почти перестали работать с современным искусством, специализированные отделы были расформированы, ведущие специалисты ушли.
Частные институции также оказались в уязвимом положении, и освободившуюся нишу занял капитал. В ситуации, когда художественная сцена остро нуждалась в поддержке, именно институт меценатства оказался тем, кто смог предоставить её участникам (не только художникам, но и кураторам, критикам, галеристам) ресурсы, пространства и впоследствии легитимизацию. Но вместе с этим коллекционер присвоил себе и право на высказывание: сегодня он выполняет функции и эксперта, и куратора, и институции.
Как верно подметил Алексей Масляев, современное российское искусство всё больше стало зависеть не от публичного обсуждения и профессиональной экспертизы, а от индивидуального вкуса и стратегий накопления капитала. Здесь невольно вспоминаются критические замечания Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера из «Диалектики просвещения», где философы вводят понятие «культурной индустрии» — системы, в которой искусство подчиняется логике капитала и превращается в товар, а порой и в сервис, упаковывающий развлечение, идентичность или lifestyle. Только если для Адорно это было предостережение, то в российской ситуации оно стало реальностью, где художник превращается в поставщика символического товара.
Конечно, было бы наивно обвинять коллекционеров в этих изменениях. Правильнее говорить о системном сдвиге, вызванном историко-культурными обстоятельствами: когда институции ослабли под давлением социально-политических событий, именно частный коллекционер оказался в положении власти. Система подстроилась под него, чтобы выжить. Но именно поэтому сегодня так важно превратить эту скрытую власть в предмет разговора — вынести её на поверхность и проблематизировать.
—
Желание сделать выставку из одной работы возникло из саморефлексии Леонида Костина над собственной коллекцией. Рассматривая её, он заметил повторяющийся мотив — парность. В его собрании множество произведений современных художников образуют пары: работы из одной серии (например, Сергея Бугаева или Франциско Инфанте), разные тиражи одного произведения (Артём Филатов) или объекты, схожие по форме, но различающиеся по цвету (Владимир Чернышёв). Так практика собирательства Костина в своём почти бессознательном жесте балансирует на грани повторения и различия. Почти одинаковые, но всё же не идентичные объекты складываются в своеобразное «стереоскопическое зрение», придавая коллекции объёмность и внутреннюю игру. Со временем эта логика парности превратилась почти в шутку, «прикол»: вещи рифмуются, спариваются, вступают в неожиданные диалоги. В этом повторе есть и удовольствие коллекционера, и его метод — превращающий собрание в систему напарников.
Неудивительно, что именно носки Всеволода Абазова из группы «ТОЙ» — предмет, изначально существующий как пара, но в данном случае превращённый в застывшую скульптуру (своего рода памятник) — стали выбором для этой экспозиции. Это спорный объект нижегородского художника и одновременно квинтэссенция всей логики коллекции: предмет повседневный, парный по своей природе, но через художественный жест он приобретает автономность и превращается в метафорический символ собрания.
—
Когда я узнал, что выставка из коллекции Леонида Костина будет состоять всего лишь из одного предмета — носков художника Всеволода Абазова, — я понял, насколько точным и своевременным оказывается этот жест. В памяти сразу всплыла сцена из книги Джоан Роулинг, где самый обыкновенный, даже «низкий» предмет гардероба неожиданно стал символом свободы: во второй части «Гарри Поттера» домовой эльф Добби получает долгожданное освобождение именно благодаря носку.
У Абазова этот предмет проходит обратный путь: он превращён в скульптуру — объект, встроенный в капиталистическую логику современного искусства, который можно купить, хранить и коллекционировать. Минимализм выставочного жеста обнажает ещё один парадокс: коллекционер вроде бы освобождает себя от необходимости демонстрировать всё собрание, но эта свобода оказывается иллюзией. Коллекционер — не только хозяин вещей, но и их заложник: от него ждут решений, мнений, публичных репрезентаций. Коллекция накладывает обязательства на своего обладателя, превращая его в фигуру, через которую искусство обретает социальный статус и символическую ценность.
В этом смысле выставка становится зеркалом не только для зрителя, но и для самого коллекционера. Она предлагает посмотреть на свою роль критически: какую ответственность несёт частный выбор, когда он превращается в инструмент власти? Где проходит граница между поддержкой искусства и его присвоением? И возможно ли коллекционирование как практика свободы?
—
Желание сделать выставку из одной работы возникло из саморефлексии Леонида Костина над собственной коллекцией. Рассматривая её, он заметил повторяющийся мотив — парность. В его собрании множество произведений современных художников образуют пары: работы из одной серии (например, Сергея Бугаева или Франциско Инфанте), разные тиражи одного произведения (Артём Филатов) или объекты, схожие по форме, но различающиеся по цвету (Владимир Чернышёв). Так практика собирательства Костина в своём почти бессознательном жесте балансирует на грани повторения и различия. Почти одинаковые, но всё же не идентичные объекты складываются в своеобразное «стереоскопическое зрение», придавая коллекции объёмность и внутреннюю игру. Со временем эта логика парности превратилась почти в шутку, «прикол»: вещи рифмуются, спариваются, вступают в неожиданные диалоги. В этом повторе есть и удовольствие коллекционера, и его метод — превращающий собрание в систему напарников.
Неудивительно, что именно носки Всеволода Абазова из группы «ТОЙ» — предмет, изначально существующий как пара, но в данном случае превращённый в застывшую скульптуру (своего рода памятник) — стали выбором для этой экспозиции. Это спорный объект нижегородского художника и одновременно квинтэссенция всей логики коллекции: предмет повседневный, парный по своей природе, но через художественный жест он приобретает автономность и превращается в метафорический символ собрания.
—
Когда я узнал, что выставка из коллекции Леонида Костина будет состоять всего лишь из одного предмета — носков художника Всеволода Абазова, — я понял, насколько точным и своевременным оказывается этот жест. В памяти сразу всплыла сцена из книги Джоан Роулинг, где самый обыкновенный, даже «низкий» предмет гардероба неожиданно стал символом свободы: во второй части «Гарри Поттера» домовой эльф Добби получает долгожданное освобождение именно благодаря носку.
У Абазова этот предмет проходит обратный путь: он превращён в скульптуру — объект, встроенный в капиталистическую логику современного искусства, который можно купить, хранить и коллекционировать. Минимализм выставочного жеста обнажает ещё один парадокс: коллекционер вроде бы освобождает себя от необходимости демонстрировать всё собрание, но эта свобода оказывается иллюзией. Коллекционер — не только хозяин вещей, но и их заложник: от него ждут решений, мнений, публичных репрезентаций. Коллекция накладывает обязательства на своего обладателя, превращая его в фигуру, через которую искусство обретает социальный статус и символическую ценность.
В этом смысле выставка становится зеркалом не только для зрителя, но и для самого коллекционера. Она предлагает посмотреть на свою роль критически: какую ответственность несёт частный выбор, когда он превращается в инструмент власти? Где проходит граница между поддержкой искусства и его присвоением? И возможно ли коллекционирование как практика свободы?